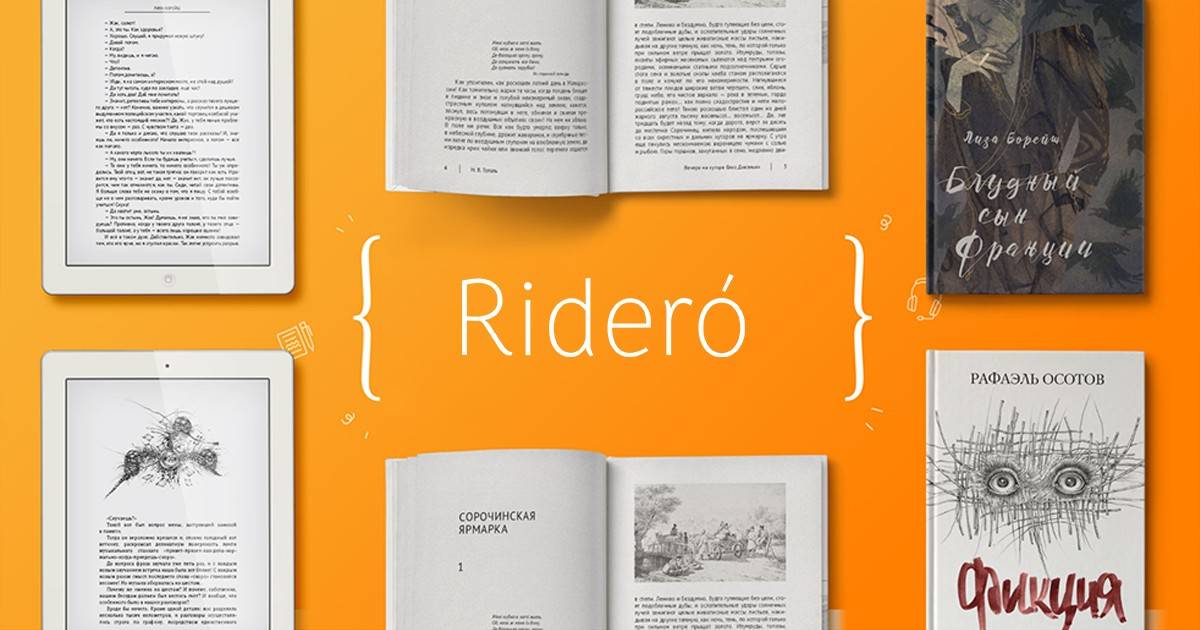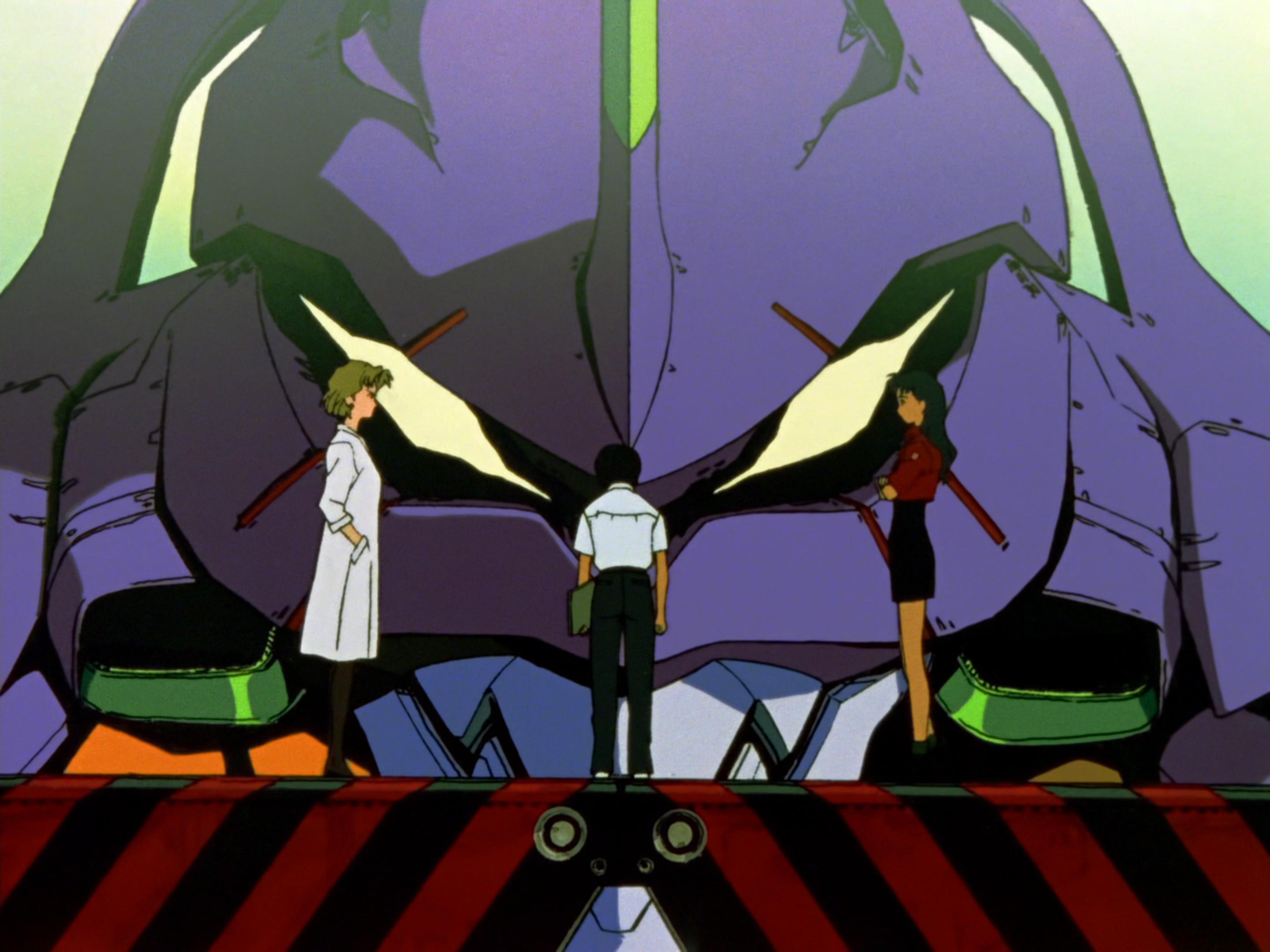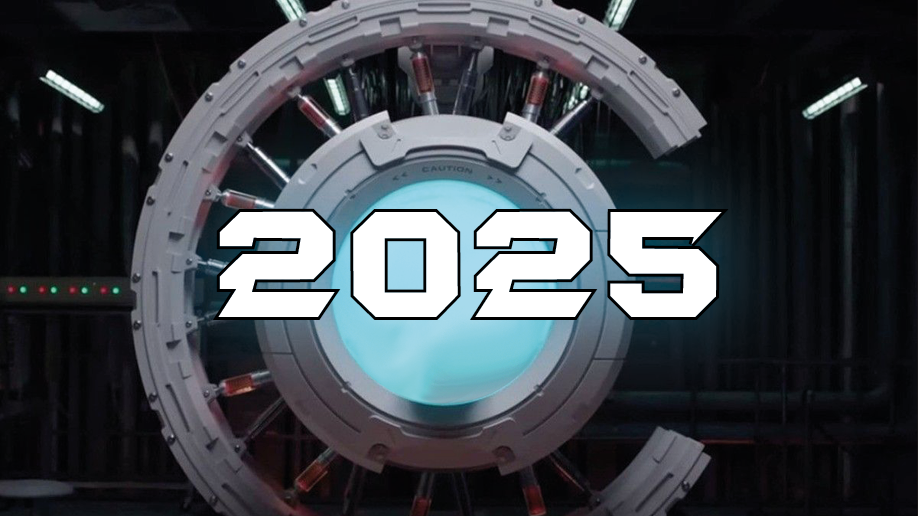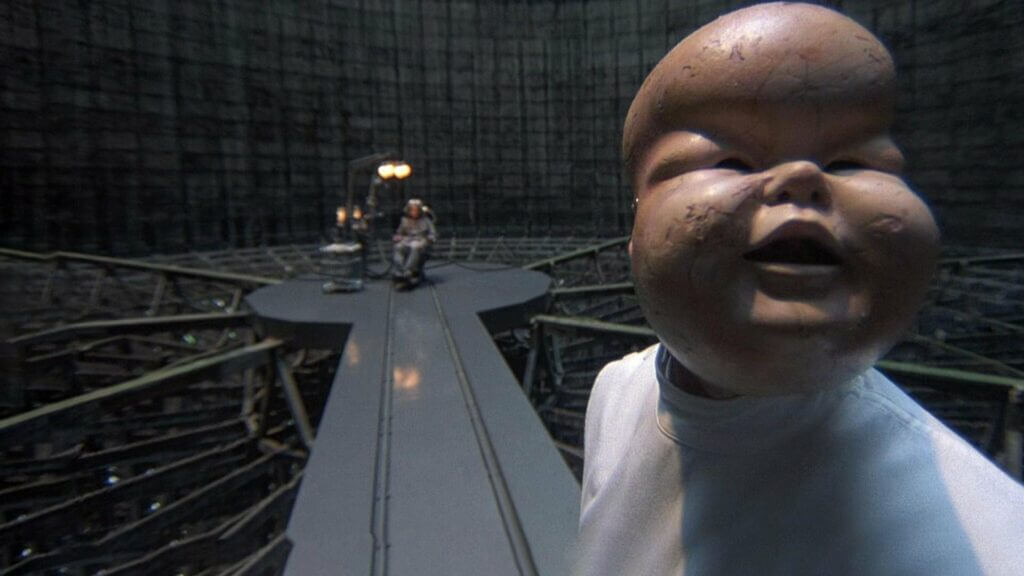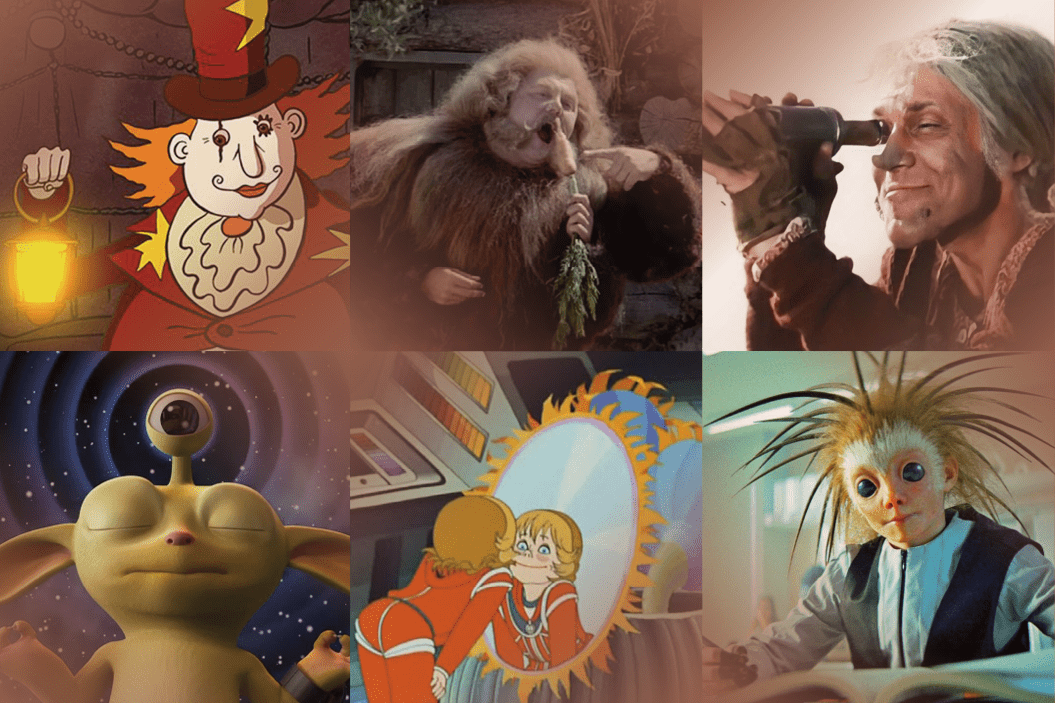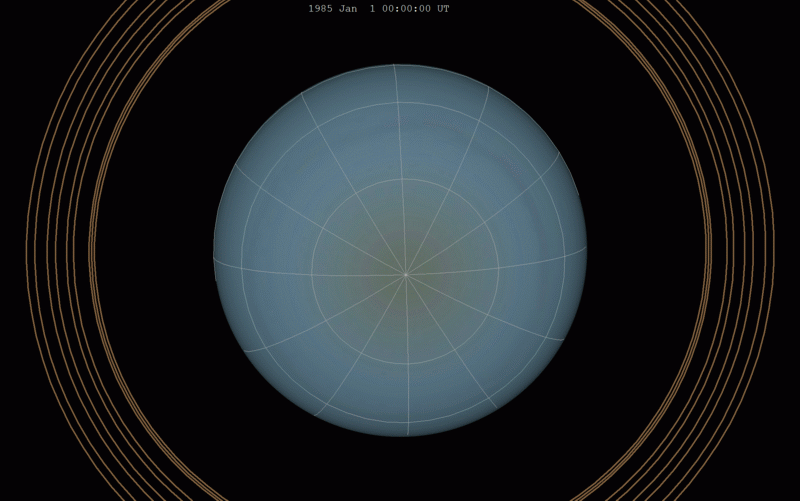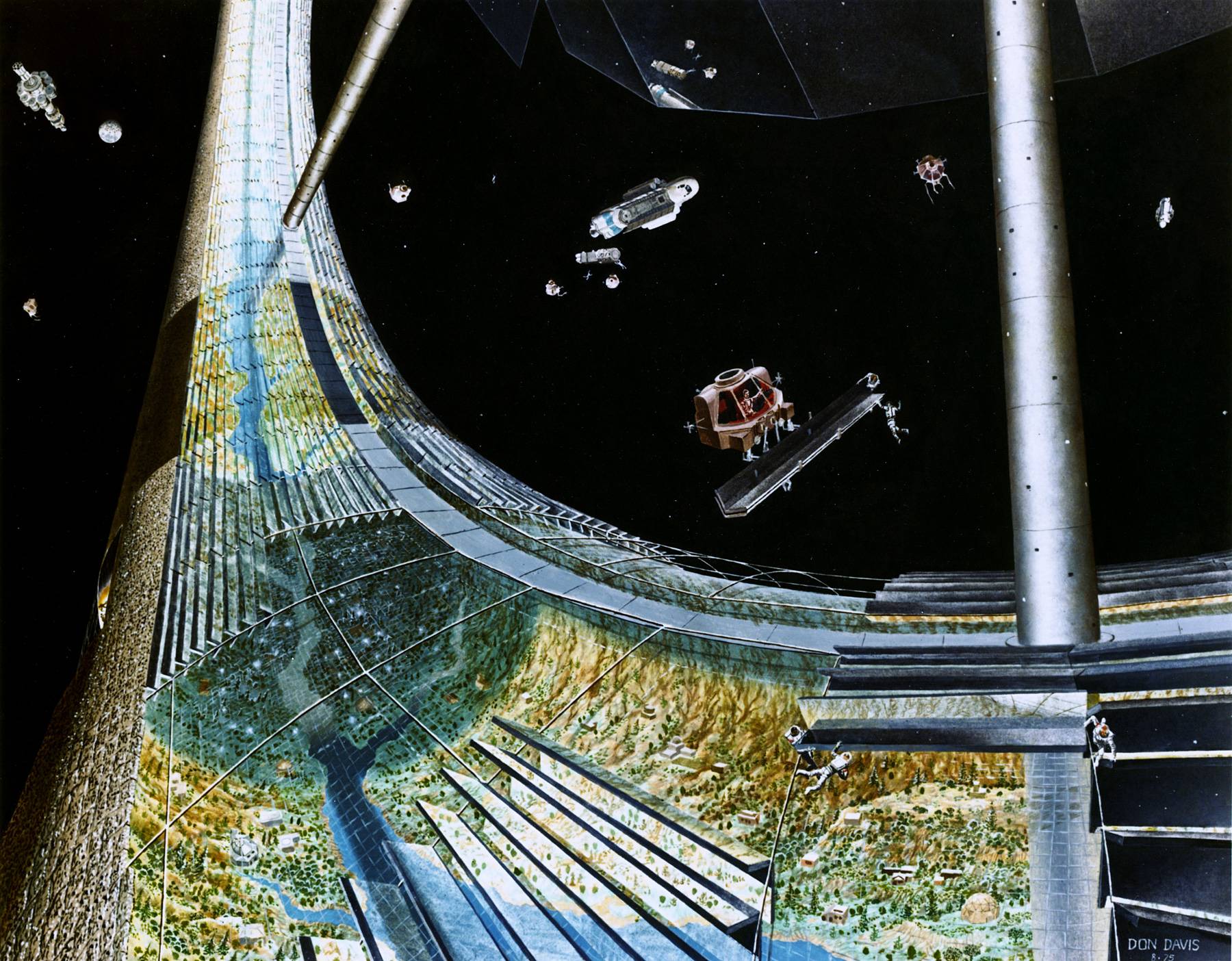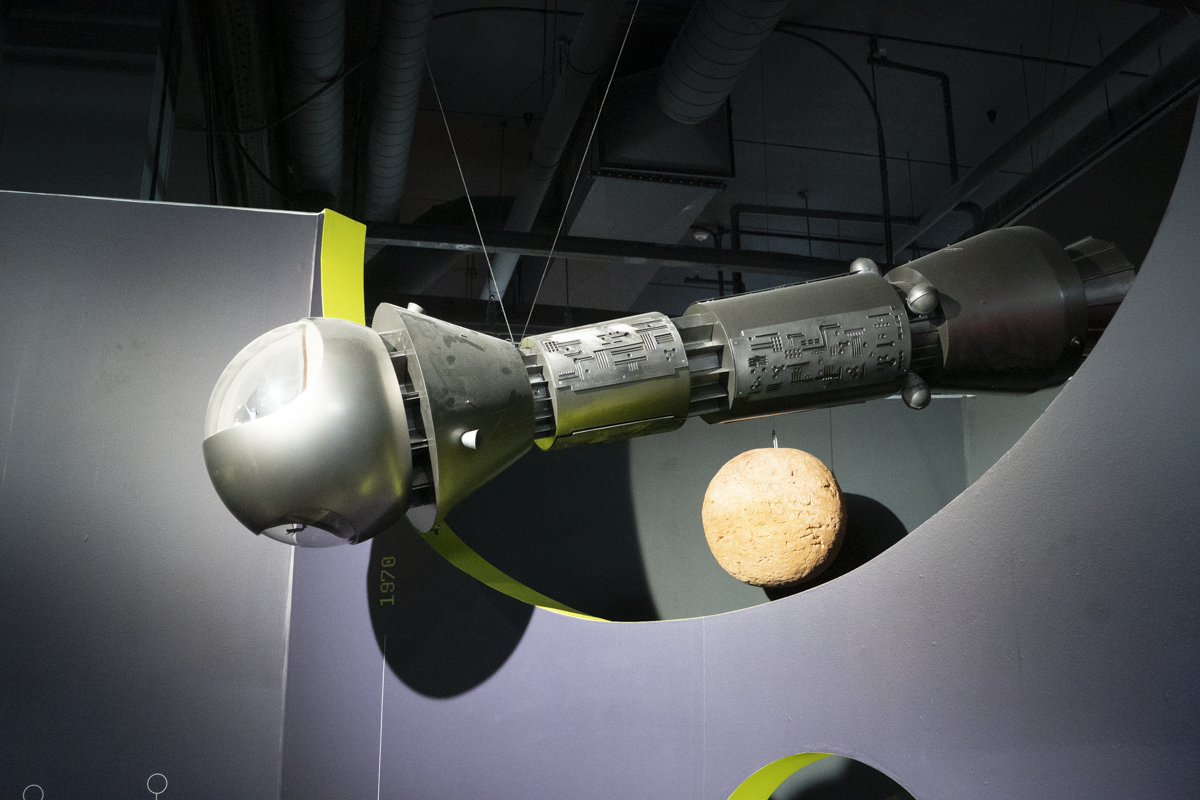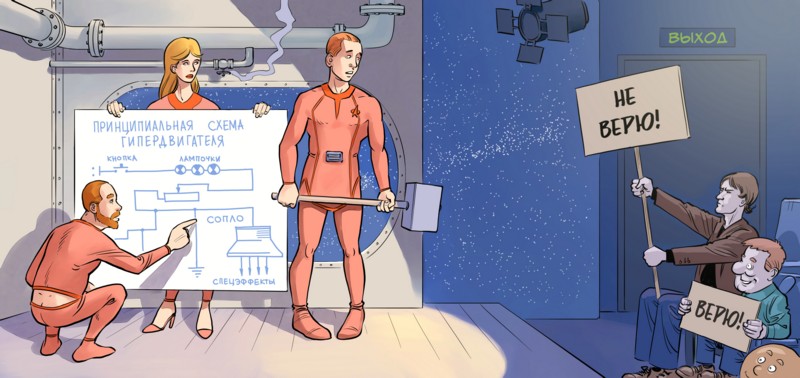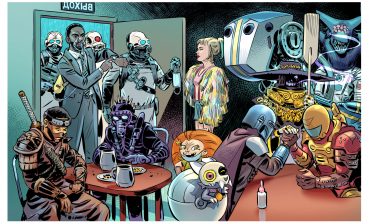Александра Хохлова «Наши странные семейные дела» (вторая часть)
2271
24 минуты на чтение
Дядя Сёма всё время умирает, а его многочисленные родственники всё время собираются на поминках. Почему это происходит? И как выбраться из этого дурного круга? Для решения этого вопроса герою придётся отправиться в прошлое и вспомнить, что случилось, когда ему было всего пять лет...
Читайте также

Александра Хохлова «Наши странные семейные дела» (первая часть)
Александра Хохлова
05.07.2020
1799
Ах, что за пытка ходить на семейные сборища, если ты их не любишь и не понимаешь. Вот и главный герой отбывает свой крест на поминках по родственнику и только и ждет возможности уйти пораньше.
Эльвира и наш Семён учились вместе в одном классе. Летом дружная школьная компания пошла купаться на речку, где шестнадцатилетний Семён неудачно спрыгнул щучкой с помоста, ударился головой об корягу и утонул.
«А я только начинала в него влюбляться, — рассказала Эльвира Николаевна. — Знаете, такое нежно-щемящее чувство, когда ещё не любишь, не знаешь, не понимаешь… но вот-вот всё поймешь. Я всё поняла, только когда он погиб».
Несколько дней после похорон Семена Эльвира прожила как в тумане, замкнулась в себе, беспрерывно плакала, просила, сама не зная кого, чтобы Семён вернулся, чтобы жил. И однажды глубокой ночью она услышала в голове голос, который со вздохом сказал: «Хорошо, Семён будет жить, но ты об этом пожалеешь».
— А чей голос был? — спросил я у вдовы.
— Мой собственный.
Услыхав голос, Эльвира сразу же уснула в полной уверенности, что желание исполнится. Утром под балконом её ждала компания одноклассников. Звали идти на пляж. Среди ребят стоял как ни в чем не бывало Семён. Память о его похоронах осталась только у Эльвиры, у остальных воспоминания о трагических событиях заменились воспоминаниями о приятных летних днях.
— Я даже не удивилась. Знала, что так будет.
Семён и Эльвира стали встречаться. Однако вскоре девушка поняла, что имел в виду голос, когда говорил, что она пожалеет.
— Трижды за то лето Сёма тонул и умирал, — объяснила Эльвира Николаевна. — Стало страшно. Я так хотела, чтобы он жил и не покидал меня, так сильно этого желала — как можно желать только в молодости, и силой своего желания я что-то сломала в естественном ходе вещей.
Договорить нам не дали. Из общего зала выбрался, пошатываясь, родственник из Нижнего Волоколамска и начал кричать, что похороны какие-то неправильные. Как можно хоронить того, кто умер пятьдесят лет назад? Эльвира Николаевна взяла его за руку и повела обратно в зал, а я отправился домой спать.
«Нежно-щемящее чувство… надо же… — думал я, вспоминая свою почти уже тридцатилетнюю жизнь. — Никогда ни к кому такого не испытывал, кроме как в детстве к маленькой безымянной черепашке».
Стало мне грустно и обидно — жаль дядю Сему и его жену, но себя еще жальче. И я никого не люблю, и меня никто не любит. Пришёл домой, включил любимую передачу «Мир с изнанки», про путешествия по всяким стрёмным местам, и заснул в обнимку с планшетом. И приснилось мне, что кремируем мы дядю Сёму на берегу Ганга…
Тело, завернутое в молочно-белый саван, лежит на помосте из дров. Горит огонь, белый дымок вьётся, а мимо несёт мутные воды река — коричневые, блестящие, как оберточная бумага. Вокруг много народу: рыбаки ловят рыбу, женщины стирают разноцветное бельё, старый брамин с длинными седыми дредами совершает омовение. Родственники мои стоят в шелках и в бусах. У мамы синее сари, у тёти Светы красное, дядя Гриша — в белоснежной чалме, набедренной повязке и с гирляндой золотистых цветов на шее. На меня — ноль внимания. Болтают между собой на хинди, я ни словечка не понимаю. Неподалёку от костра расположилась группа молодых ребят в оранжевых накидках, с лысыми головами и с маленькими барабанами под мышками. Общаются по-русски. Подхожу к ним, спрашиваю:
— А вы кришнаиты, да? Лёши Тетерева друзья?
Кивают головами и продолжают между собой беседу. Дескать, чтобы была стабильность, должны произойти соответствующие изменения, иначе никак. Изменения будут происходить, и им не важно, прошлое это или будущее. Изменяясь, реальность стабилизируется. Я понял, что сами они ничего толком не знают и не понимают, просто красиво заученные слова повторяют. Разворачиваюсь, чтоб уйти.
— Подожди! — кричат. — Смотри! Не твоя черепашка потерялась?
Смотрю. У берега плещется маленькая черепашка. Ныряет, выныривает, плавает кругам. Хотел лезть за ней в воду, но кришнаиты остановили. Жди, говорят. Волны Ганга принесут её к тебе, и вот тогда не зевай, не дай её никому раздавить. Чай, не пять лет тебе уже, а тридцать.
Над дядиным погребальным костром вился уже не белый дымок — серый дымище. Родственники разошлись, и кришнаиты куда-то подевались. Остались только я и полуголый брамин, который подошёл и попросил у меня денег на саморазвитие, уж не помню, на каком языке. Но я его понял. И говорю:
— Денег нет. И вообще, я сплю.
— Без денег, ещё и спишь? — хмыкнул брамин.
Он выкрутил свои мокрые космы и брызнул мне в лицо водой. Вскрикнув от неожиданности, я проснулся. Мама стояла надо мной, брызгала в лицо водой и будила.
— Вставай, сына-ааа-а! Звоню тебе, звоню! Эльвира срочно просила в больницу приехать. Семён Аркадьевич при смерти, хочет поговорить.
Мысленно отругав себя за то, что отдал матери запасные ключи от квартиры, я поплёлся на кухню, заваривать кофе. Ехать в больницу решительно не хотелось. Не люблю её, с тех пор как в детстве загремел туда с воспалением лёгких. Да и находилась больница на окраине, ехать нужно было на машине, машина стояла на стоянке, до которой пешком идти минут двадцать. На улице холод и дождь. Мрак!
— Мам, а ты точно всё правильно поняла? Зачем меня звать? Мы толком и не общались никогда. Я живым его в последний раз в детстве видел!
— Что ты мелешь, Борька! Семён и сейчас ещё живой. Давай, собирайся. Может, он наследство тебе оставить хочет.
— Да какое наследство, мам! У него свои дети, внуки.
Поехал. Пока добирался, пришла мне в голову интересная идея, которая, как показалось, на корню разрушала теорию Эльвиры Николаевны о её вине в происходящем с дядей Семёном. Об этом я поспешил сообщить, когда мы встретились у входа в больницу:
— Я вчера беседовал с нашим родственником из Нижнего Волоколамска. Он говорил, что…
— Семён умер в шестилетнем возрасте? — хмыкнула, перебивая, Эльвира Николаевна. — А вы знаете, Боря, что такого города нет? Есть Нижний Новгород, есть Волоколамск, а никакого Нижнего Волоколамска нет. — Эльвира достала из сумки целлофановый пакет, внутри которого находился плотный свёрток из фольги. — Лёша Тетерев научил меня прятать «манделовские» вещи. Тогда о них иногда «забывают», и они не меняются.
— Кто забывает? — не понял я.
— Бог, высшие силы, не знаю, — сказала она. — Не всегда помогает, но посмотрите сами.
В пакете оказалось несколько старых телеграмм с соболезнованиями, открыток и магнитиков на холодильник. Все из несуществующих мест, типа Злато-Ордынска или Кишинёва-на-Амуре.
— Это розыгрыш какой-то, — предположил я.
— Борис, вы разговаривали с человеком из несуществующего города на поминках того, кто вчера лежал в могиле, а сегодня жив, — напомнила Эльвира. — Не удивлюсь, если на похороны когда-нибудь заявится человек, который помнит, что мой Сёма умер ещё в младенчестве.
В молодости дядя Семён много раз тонул, пошел работать — по нескольку раз в год стал погибать в авариях на заводе, потом пошли инфаркты. Разведясь, Эльвира Николаевна вернулась в наш город. Семён Аркадьевич к тому времени уже был вдовцом и жил один, и умирал тоже один. Эльвира и Семён снова сошлись и стали жить вместе.
— Я всю жизнь думала над тем, что произошло. Много читала про, скажем так, альтернативные устройства мироздания и пришла к выводу, что моё желание — это камень, брошенный в воду времени. По воде пошли круги, искажающие реальность, и им всё равно, где прошлое, где будущее, — пояснила жена дяди. — Я поняла, что Сёма — это мой крест, и мне надо нести его до конца.
Мда… Круги, кресты и желание девочки, мимоходом создающее города или отменяющее их существование — не верилось мне в это как-то, но возразить было нечего. Каждый верит в то, что хочет, поэтому я только спросил:
— Вы знаете, зачем Семён Аркадьевич меня позвал?
— Без понятия, — ответила Эльвира с едва уловимой заминкой. — Не думаю, что это важно. Всё сотрётся, всё забудется. И этот разговор тоже.
Зашёл я к дяде Семёну в палату. Выглядел Семён Аркадьевич неплохо, как для умирающего, но смотрел уж очень неприветливо. Будто не он меня позвал, а я сам в гости напросился. Передал ему апельсины, сок, привет от мамы — всё как положено, присел на табуреточку. Сижу, жду, что он скажет.
— Элька сказала, ты всё помнишь, — буркнул дядя.
Я молча покивал головой.
— Позвал я тебя, Борис, чтобы повиниться, прощения попросить за твою черепашку, — неожиданно изрёк дядя, глядя при этом не на меня, а в окно.
Я забормотал, что давно дело было, да и не помню я об этом ничего. Что, в принципе, было правдой — до определённого момента. Не помнил я о бедной черепашке, пока не стал раскручиваться маховик с многократными похоронами.
— Вы ж нечаянно, дядя Сёма.
— Ха! Нечаянно… Специально я её, заразу, раздавил!
Характер у меня хороший, но вспыльчивый. К тридцати годам я так-сяк научился себя сдерживать, но сейчас, на мгновение, я почувствовал себя опять десятилетним, и просто руки зачесались пойти и ещё раз поджечь дядин гараж.
— Так, — говорю. — Вот с этого момента поподробнее. Чем черепашка вам не угодила?
— А я тоже помню, — сказал дядя, проигнорировав вопрос. — Но не всё. Как в детстве тонул — не помню, и аварий на заводе на моей памяти не было ни одной. Первый раз помню, как умер, через три дня, после того случая с тобой. Орал ты на меня, как бешеный! Вылитый твой отец в молодости…
— А с отцом моим что не поделили?! — возмутился я.
— Не что, а кого! — лицо Семёна Аркадьевича расплылось в глупой улыбке. — Верусика.
— Верусика? А кто это? Стоп! Маму мою? Веру Андреевну?
— С твоим отцом, братцем моим троюродным, даже подрались из-за неё. Ну, как подрались… один раз он меня толкнул, накричал — я испугался и больше в сторону Веры и не смотрел. Хлюпик был, — вздохнул дядя. — А тут Элька подвернулась, вцепилась, как клещ. Ох и радовался я, когда она наконец-то в другой город уехала!
Обидно мне стало за Эльвиру Николаевну. Столько вытерпела из-за этого старпёра, похороны ему устраивает с каждым разом всё лучше и лучше, а он такие нехорошие вещи говорит. Сам ты старый клещ!
— Что смотришь? Знаю я про Элькину теорию кругов на воде времени и про её желание, чтоб я жил. Только кажется мне, что на самом деле, умер я давно, а вы все — мой персональный ад!
— То есть мы все: я, тётя Эльвира, другие родственники — черти? Дядь, вы же от инфаркта умерли… то есть, умрёте… то есть… Не мелите чушь, короче. У вас ведь не белая горячка, чтобы вам черти мерещились.
— А может, я в дурдоме лежу, с ума схожу, — задумчиво протянул дядя Семен и попросил налить ему сока и почистить апельсин. — А может, и права Элька про круги на воде, но только не она бросила камень. А я сам! И камень этот не желание, а злоба. Раздавил черепашку, выместил злость свою на маленьком ребёнке.
— Зачем же вы на Эльвире женились, если так к ней относитесь?
— Страшно одному умирать, — спокойно заметил дядя. — Не привыкну никак. А она меня любит, вину за собой чувствует. А может, и её правда! Въедливая она всегда была и нудная — староста класса, комсорг, если кто и мог мёртвого с того света достать, так только она. Хе-хе!
И опять дядя стал прощения просить за черепашку.
— А я ваш гараж в 89-м поджёг, помните? Простите? — не удержавшись, сказал я, хотя много лет в этом никому не признавался.
Услыхав про гараж, дядя Семён захрипел, стал хвататься за сердце. Я заметался по палате в ужасе, что довёл человека до инфаркта. Хотел бежать, звать врача, но услышал, как Семён Аркадьевич смеётся, словно ворона каркает.
— Шуточки глупые! — выдохнул я с облегчением. — Что вы ко мне прицепились с черепашкой? Делать вам нечего?
Но дядя опять меня не слушал и говорил о своём.
— Плохо Вера с отцом твоим жила. Сама говорила, из-за тебя только не уходит. Вот подумал я, грешным делом, умрёшь ты — ко мне она уйдёт.
— Умру? — удивился я. — Мне-то с чего умирать?!
— Ты ведь маленьким чуть не умер от воспаления лёгких. Не помнишь, что ли? В больнице, в этой палате лежал. Приходил я тебя проведывать. Тоже соки приносил, фрукты. И мечтал. Как ты умрёшь, как мы с Верочкой заживём.
Больше я терпеть не стал, вскочил с табурета и направился к двери.
— Стой! Где ты взял черепаху?! — рявкнул вслед дядя.
— Да отвяжитесь от меня, в самом деле! Мама подарила!
— Врёшь! Верусик терпеть животных не может. Грязь от них одна и болячки!
И тут вспомнил я, как везли меня в больницу. Дядя Сёма и вёз на своей машине, вместе с мамой. Плохо мне, но всё равно я не забываю, что у меня скоро день рождения, и прошу подарить котёнка или щенка. «Какой котёнок, какой щенок? — кричит мать, брызжа слюной и слезами. — Болеешь ты, лечить тебя везём! Олух, не пойми, в кого уродился!». Я продолжаю канючить, и мама в сердцах бросает: «Нет, нет и нет. Никаких животных. Грязь от них одна и болячки!» После этих слову меня перед глазами замелькали какие-то яркие лоскуты, голые смуглые тела, резные стены со странными узорами. Меня будто бы несло по прозрачной спиральной трубе, я слышал слова «носилки… теряем… капельница…». А потом я увидел синекожего многорукого жонглёра. Он ловко перебрасывал цветы, кинжалы и золотые погремушки из руки в руку и хохотал мне в лицо.
После больницы я решил заехать к Лёхе Тетереву. Не шёл у меня из головы тот синекожий. Видел я его у Лёхи. На плакате, которым он «манделовский» список прикрывал.
— Кто это? — спросил я у брата, указывая на плакат. — Ты говорил, кришнаиты тебе постер подарили. Это Кришна?
— Ммм… не факт, — с сомнением ответил Лёша. — Они мне штук пятнадцать плакатов подарили с разными индийскими божествами.
Брат объяснил, что у индуистов богов видимо-невидимо. Миллион, а может, больше. Он только Ганешу «в лицо» опознать может, потому как у того голова слона. Хобот есть, уши и бивни, всё как положено. Постеры с божествами индуистскими, кроме одного, Лёха раздал, раздарил знакомым. Кто ему остался — он, хоть убей, не помнит. Я описал Лёше свои индийские видения, но брат посоветовал не брать дурного в голову и рассказал свой сон.
— Пришёл я как-то с очередных дядькиных похорон. Насмотрелся перед тем, как спать лечь, то ли «Хистори», то ли «Дискавери», и приснилось, что хороним мы Семёна Аркадьевича, как викинга.
— С мечом в руке? — не понял я.
— В ладье посреди реки! — Лёха хлопнул ладонью по столу. — Лодка с покойником плывёт, и надо в неё выстрелить горящей стрелой. Я просил у мамы стрельнуть, мне не дали. Я обиделся и проснулся.
Слушал я Лёху вполуха, рассматривал постер. Синий парень на картинке сидел на черепахе в позе лотоса. В его руках, действительно, были и цветы, и кинжалы, и погремушки, и много чего мне незнакомого. Причёска у божества смешная, можно сказать, женская, — гулька на макушке в золотом обруче и чёрные волнистые волосы по плечам рассыпаны.
— Как у тёти Светы причёска, — рассмеялся я. И тут же осёкся, вспомнив, о чём разговаривал с синекожим жонглёром.
«У вас гулька как у моей тёти», — сказал я ему.
«А кому больше идёт — мне или ей?» — спросил он.
«Вам», — немного подумав, ответил я.
«Спасибо!»
Жонглёр так обрадовался моему ответу, что перестал перебрасывать свои вещички, и они застыли в воздухе, зависли, как на невидимых ниточках. Тут я только заметил, что сидит жонглёр на черепахе, как на круглом диванчике. Черепаха бьёт бесшумно лапами по розовой воде, а я стою на водной глади, будто на твёрдом полу, над нами бегут золотисто-розовые облака — так низко, что кажется, подпрыгнешь и достанешь рукой.
— Как ты сюда попал, мальчик?
— Заболел и попал, — ответил я. — А почему у вас кожа синяя?
— Тоже болел. В детстве. Лечили серебром, а от него кожа синеет, но ничего, через миллион лет всё пройдет.
— Ого! — говорю я. — Миллион лет ждать! Ну, синяя кожа тоже красиво. А почему у вас много рук?
— Ты живешь в одном мире, — объяснил жонглёр. — А я живу в нескольких мирах одновременно, поэтому и кажется, что у меня много рук.
— Понятно.
Как ни удивительно, но тогда, в пять лет, я отлично понял ответ, поверил, и меня совсем не смутила идея о множественности миров.
— А как вас зовут? — продолжил я знакомиться.
Жонглёр скорчил смешную гримасу.
— Тебе не выговорить моё настоящее имя, а ненастоящее ты не запомнишь. Давай так. Вот как тебя зовут?
— Борька.
— И меня зовут Борька. Ты мальчик Борька, а я божество Борька. У тебя ведь скоро день рождения? Хочешь подарок?
— Хочу. Котёнка или щеночка, — не стал я теряться.
Божество почесало себе макушку золотой шпилькой и призналось, что ни щенка, ни котёнка подарить не может, но предложило на выбор слонёнка, телёнка или черепашку. От телёнка я сразу отказался, потому что летом жил у бабушки деревне и с коровами мог общаться без всяких подарков. Хотелось выбрать слонёнка, но двоюродный брат Лёшка был меня сильнее и обожал слонов. Я побоялся, что он его отберёт. Да и понравилась мне черепаха божества Борьки. Вот и моя вырастет, станет большой, думал я, будем с ней вместе по речке плавать.
— Черепашку хочу! — выбрал я.
— Хорошо! Только, знаешь, говори всем, что мама тебе её подарила, — попросило божество.
— А маме что сказать? Откуда черепашка?
Вещички, зависшие в воздухе, вновь завертелись в руках жонглёра с бешеной скоростью.
— Маме? Хм… Да то же самое скажи! — захохотало божество Борька.
Следующее, что помню, — я уже дома, жив-здоров, держу в руках черепашонка, а мама спрашивает:
«Где взял?»
Отвечаю, не моргнув глазом:
«Как где? Сама подарила!»
И мама отходит удивлённая, бормоча что-то под нос.
Вскоре дядя Сёма опять скончался. После похорон огласили завещание. Мне, как ни странно, он завещал гараж, причём не «ракушку», а хороший такой, капитальный гараж — кирпичный, с электричеством, ямой смотровой и от дома недалеко. Приятно было, аж до слёз. Многие родственники после этого стали косо на меня смотреть, особенно тётя Света. Самое интересное — после оглашения последней воли усопшего он больше не воскресал. Во всяком случае, на моей памяти.
Прошёл год с небольшим.
Пригласили меня на свадьбу. Замуж выходила внучка Эльвиры Николаевны — старшая дочка сына от первого брака. Пришлось идти, хотя, как я уже говорил, массовые родственные сборища мне в тягость. Напьёшься — все кости перемоют за то, что напился, постараешься остаться трезвым — скажут, родню не уважил: сидел и своим кислым видом портил всем настроение.
Сели, выпили за здоровье молодых, и… я сразу почувствовал: сегодня скучно не будет.
Первым блюдом принесли окрошку.
— Окрошка?! Серьёзно? Да кто ж на свадьбах окрошку ест? — поделился я сомнениями с дядей Гришей, сидевшим рядом, представив, как смешно будет выглядеть вся эта разнаряженая публика, сёрпающая алюминиевыми ложками весенне-летний супик. Борща б ещё красного украинского налили и сальца с цибулей нарезали.
— Ну ты, Борь, дремучая необразованная тундра! — заметил дядя Гриша. — Окрошка — традиционное свадебное блюдо. Его всегда первым подают. Испокон веков так было, как блины с мёдом на похоронах!
«Конечно, а на крестинах у нас кумыс пьют. Без этого никак, — захотелось съязвить мне. — А на проводах в армию кабачки тушеные едят. И пахлаву! Обязательно! А то служиться не будет!» Но промолчал, услыхав откуда-то сбоку:
— А вот у нас в Злато-Ордынске первое блюдо на свадьбе — баранина!
Вздрогнув, я обернулся на голос и увидел незнакомую бойкую старушку и выглядывающего из-за её костлявого плечика родственника из Нижнего Волоколамска. Неужели опять?! Локальная мандела? Все признаки налицо! Окрошка, которая вдруг стала традиционным блюдом на свадьбе, а я ни сном ни духом; гости из несуществующих городов. Который раз я прихожу на эту свадьбу?!
Я стал оглядываться, всматривался в людей, в обстановку, пытаясь вспомнить. Невеста… Огромные черные глаза… Где я их видел? Кого напоминает мне девушка с платиновыми волосами, так элегантно вкушающая окрошку? Веточки на свадебном венке забавно торчат. Похожи на мини-рожки. Фата в мелкий горошек. И тут меня как молнией ударило! Озарило! Телёнок! Бабушкин телёнок, что однажды забрёл к соседям во двор, запутался в верёвках, на которых сушилось бельё, в том числе и шикарные семейные труселя в горошек, повисшие затем у телёнка на рожках.
То, что невеста похожа на беленького телёнка, пробудило во мне смутные подозрения, но ещё не воспоминания. И я решил присмотреться к окружающей обстановке. Так… Столы стоят буквой «П». Сижу я в середине ряда, спиной к окну, между тетей Светой и дядей Гришей. Передо мной, за спинами гостей, на противоположной окну стене — утомительное по яркости панно: утопающие в зелени индийские храмы под синим безоблачным небом, пальмовые рощи и цветущие кусты, из-за которых выглядывают слоны, тигры, обезьяны. Течёт река — вероятно, Ганг.
Точно Ганг! Кафешка ведь так и называется — «Волны Ганга». Опять прежнее смутное чувство! Будто вот-вот что-то вспомнится, поднимется со дна памяти. На потолке на золотых колесницах под полосатыми шатрами-палантинами сражаются черные демоны и синекожие боги. «Махабхарата — индийский эпос», — вспомнил я слова подкованного в этом вопросе брата Лёши. Но когда он мне их сказал? Я сегодня с ним ещё не разговаривал. Его вообще нигде не видно.
— Потолок — высший класс! — раздалось за спиной. — Махабхарата — индийский эпос. Митька Комаров рисовал — я его хорошо знаю, на изостудию вместе ходили.
— Подвинься, Борь! Пусть Лёшенька рядом сядет, — велела тётя Света. — Тарелку передай. И стакан.
Я подвинулся.
— Глянь, Лёша. Невесту тебе нашла.
Машинально посмотрев на молодожёнов, Лёшка похлопал ресницами.
— Зачем мне эта тёлка, мам? — удивился брат. — Я с ней еще в восьмом классе мутил, когда она на каникулы к тёте Эльвире приезжала.
— Ты не на чужую невесту пялься, вперёд смотри! — незаметно отвесив сыну подзатыльник, сказала тётя Света.
Лёша глянул. Я тоже посмотрел — и увидел внушительных объёмов бюст, украшенный немыслимым количеством экзотических побрякушек. Напротив нас сидела молодая, но весьма знойная женщина, чьи мощные плечи прикрывал полупрозрачный красный платок. На то, что дамочка совершено без комплексов, указывал и её громкий смех, с которым она рассказывала о своих приключениях в турпоездке на Гоа, и отпадная прическа — гулька с торчащими из неё разноцветными дредами, совершенно не прикрывающими лопоухие ушки. Незабываемый образ завершали очень крупные резцы — маленькие бивни, по-другому не скажешь. И нос! Длинный, блестящий, с подвижным мясистым кончиком.
— Да не на Настю смотри! — одернула Лёху тетя Света, доходчиво пояснив свою позицию: — Такая с костями пережуёт и выплюнет! Все деньги потратит на всякие Турции с Таиландами.
— Так на кого мне смотреть, мам?! — спросил Лёша, инстинктивно прикрывая затылок рукой, уворачиваясь от тяжелой материнской руки.
— На Алёнку! Вторую Эльвирину внучку. Чудо, а не девушка!
Рядом с яркой Настей, совершенно теряясь на её фоне, сидела хрупкая девчушка в легком синем сарафанчике на тоненьких бретельках. Окрошку не ела, грустно жевала салатный листик и всё время нервно поправляла очки. Честно говоря, я бы в жизни не обратил на неё внимания, если б не глаз-алмаз тёти Светы.
— Алёнка? — стал присматриваться Лёша. — Помню малую! Это же она пришла на похороны дяди Сёмы в костюме черепашки-ниндзя. Годков пять-шесть ей тогда было. Эльвира за голову хваталась, что за внучкой не уследила.
В этот раз Лёха не смог избежать подзатыльника.
— Какая черепашка, Лёшка?! Какие пять-шесть лет? — тихо взвыла тётка. — Девке двадцать четвёртый год, а Семён умер полтора года назад. Соберись! Совсем в своей общаге умом тронулся!
Маленькую черепашку — вот кого напоминала Алёнка, несмотря на славную фигурку и удивительно приятные черты лица. Не знаю, может, всё дело в очках с круглой оправой, которые совершенно ее не портили, а только подчеркивали неброскую симпатичность. Нежно-щемящее чувство, когда ещё не любишь, не знаешь, не понимаешь… но вот-вот всё поймешь, заполонило меня в один момент. Не было для меня тогда никого прекраснее во вселенной, чем эта девушка, жующая листик салата. С небес на землю меня вернуло продолжение разговора тёти Светы и Лёшки.
— Двадцать четыре, надо же, — протянул Лёха. –А я бы её за школьницу принял, если б на улице встретил. Не хочу я на ней жениться, мам, ну не в моём она вкусе. Тощая, бледная. Пару раз я б с ней встретился, но жениться…
— Ох, дурак ты у меня, Лёшка, ох и дурак! — сказала тётя Света. — Вот кто про женитьбу сейчас говорит?
Тут уже и мне стало любопытно. О чём это она, если не о женитьбе?
— Никто тебя на Алёнке Сизовой жениться не заставляет, а в невесты мы ее возьмём, — пытаясь сдуть прядь волос с потного лба, разгорячено шептала тётя Света.
— Зачем? — не понял Лёха.
Я тоже не понимал, зачем, и был весьма заинтригован. Мне казалось, что я присутствую на зарождении аферы века, и не ошибся, хоть и сильно удивился коварству родственницы.
— Ты глянь, какая цаца, — сказала тетя, ткнув вилкой в Алёнкину сторону. — Окрошку не ест. Стесняется сёрпать при всех, листики зеленые жуёт, пока Настька уже третью плошку наворачивает! — Тут тётя привстала и отобрала у проходящего мимо официанта блюдо с жареными окорочками. — Я таких тихонь с первого взгляда узнаю! — продолжила она, с аппетитом поглощая холестерины. — Охмурить раз плюнуть. Комплиментик скажешь, цветочек с клумбы подаришь. И она твоя! А зарплата у неё хорошая. Эльвирка сама мне хвасталась. Звёзд с неба не хватает, но хватит денег тебя содержать.
— Мам, да с чего ей меня содержать? — удивлённо спросил Лёша. — И зачем мне? Я сам зарабатываю!
— Да сколько ты там зарабатываешь на своей автомойке? Смех и слёзы!
— Мне хватает, — насупился брат.
— Хватит в общаге париться! — гнула свою линию тётя Света. — Пьянство там одно, разврат и наркомания. Ипотеку надо брать. У тебя ж ни кола, ни двора. Вон у Борьки, и то! И квартира есть — даром что у чёрта на куличках, зато своя, и машина, а теперь ещё и гараж! — Родственница так скрежетнула зубами от злости, что наверняка её услышали и в иных мирах. — Квартирку оформляй на себя. Невесте скажешь, что для будущей семьи стараешься. С тебя взносы по кредиту, а с неё коммуналка, продукты, одёжка, обувь. А как выплатишь — будешь уже не нищебродом, как сейчас, а собственником квартиры. Мы тебе жену нормальную найдем, среди тех же Алёнкиных подружек побогаче и присмотрим. Парень ты у меня видный, а со своим жильём мы и на дочку мэра замахнуться сможем!
— Так у него сын — Митька Комаров, — возразил Лёшка.
— Не зли мать! Значит, на дочку заммэра!
— Настя Краснова — дочка заммэра. Вчера её отца назначили. Митька рассказывал.
Тётя Света на мгновение задумалась, пристально посмотрела на Настю, хохочущую так, что побрякушки у неё на груди подпрыгивали, как живые, закатила глаза, будто что-то в уме подсчитывала, потом решительно сказала:
— Нет, только через мой труп! — и пошла фотографироваться с какими-то родственниками, велев сыну, не теряя времени, начать охмурять Алёну.
Действовать надо было быстро и решительно, так как в одном тётя Света была точно права: Лёшка Тетерев — парень видный, да и мамины приказы он обычно выполнял беспрекословно. Тем временем ушастая незакомплексованная Настя встала и пошла танцевать. Ярко-красное платье в золотых узорах трещало на бёдрах и животе по швам. И по какому-то наитию я понял, что действовать надо еще и по-хитрому — по-кришнаитски.
— Смотри, весёлая какая... — задумчиво протянул я. — На Ганешу похожа, с такой точно не заскучаешь.
— Ганеша! — засмеялся Лёха. — А я смотрю, смотрю и понять не могу — на кого похожа?
— Пойду и я потанцую. А ты вон… с Алёнкой Сизовой посиди.
— Сам сиди!
Не успел я и глазом моргнуть, как Лёха с Настей уже зажигали под восхищенными взглядами потолочных богов и демонов так, что полы гнулись. А я, захватив тарелочку с салатом, пошёл знакомиться с Алёной.
— Здравствуйте, — сказал я. — А вы внучка Эльвиры Николаевны? А я…
— Племянник её покойного мужа — Боря Кацев, — грустно ответил за меня «черепашонок», беря листик с тарелочки тоненькими пальчиками.
— Я не в первый раз к вам знакомиться подхожу? Так ведь? — догадался я. — А…
— Восьмой, — сказала Алена, предугадывая вопрос.
Проклятая мандела!
— А давайте…
— Уйдём? — спросила она. — Ничего не получится. Вон та женщина, Светлана Тетерева, которая хочет, чтобы я с её сыном сожительствовала и содержала его, пока он ипотеку не выплатит, сейчас ударит вас бутылкой по голове. Вас скорая увезет, а её полиция.
— Какой ещё бутылкой? — растеряно переспросил я.
— Этой, — Алёнка указала на бутылку вина красного игристого с надписью «Вино-водочный завод г. Кишинёва-на-Амуре».
Я быстро сунул бутылку под стол. Не хватало, чтоб меня били по голове бутылкой из несуществующего города. Обидно ведь вдвойне!
— Не поможет, — меланхолично заметил «черепашонок». — Она другую бутылку найдёт. О! Уже идёт…
«Гараж дядькин захапал, теперь невесту ему нашу подавай!» — смешно передразнила она тётю Свету, хотя мне, конечно, было не до смеха.
— Ага! Гараж дядькин захапал, а теперь невесту нашу ему подавай! — кричала на всё кафе тётя Света, летя ко мне, как на крыльях, мимо танцующих пар.
Было заметно, что она не только фотографировалась, но и многократно выпивала за встречу и за то, «чтоб не в последний раз», с нашей многочисленной роднёй из других городов и сёл. От страха я зажмурился, закрыл глаза, приготовившись к неизбежному. И вдруг перед моим внутренним взором возникло божество Борька.
«Видишь, Борька, — сказало оно мне. — Выбрал бы ты телёнка — сейчас бы женился, выбрал бы слонёнка — сейчас бы веселился, а от черепашки какой толк?»
«У тебя же у самого черепашка!» — попытался поспорить я.
«Моя — особенная!»
«И моя — особенная!»
«Так сделай что-нибудь!»
Я резко встал и попытался сбежать от разъярённой тётки. С перепугу и не заметил, как добрался до музыкантов, что включили гостям какую-то зажигательную иностранщину, а сами лениво листали приложения в телефонах.
— Чего хотел? — спросили они у меня.
— Медляк! — выпалил я, задыхаясь от забега. — Подарок для молодожёнов.
— От кого? — деловито поинтересовались музыканты.
— От… от Светланы Тетеревой, — дрожащим голосом ответил я, встречаясь глазами с тёткой, что шла за мной с неотвратимостью терминатора.
— Белый танец?
— Что? Да! — согласился я, мало, что соображая.
— Платишь ты?
— Да.
— Заказывай.
— Да мне всё равно, — ответил я, доставая деньги.
— Нет, выбирай! — настояли музыканты.
Я ткнул пальцем в первую попавшуюся песню из списка, написанного на пожелтевшем от времени тетрадном листке.
— Мда… ну как скажешь, — заметили музыканты. — Специально для молодожёнов от Светланы Тетеревой звучит песня «Ах, ягель, белая трава — слезою девичьей полита…» Дамы приглашают кавалеров.
Отступать было больше некуда, а желающих танцевать медленный танец оказалось слишком мало, чтобы создать между мной и тёткой безопасную буферную зону. Но тут меня выручила добрая Настя Краснова. Властным жестом она привлекла к себе Лёшку — так, что он просто утонул лицом в её бюсте, обняла братца одной рукой за талию, а свободной рукой принялась махать красным платком, как флагом, зовя невесту.
— Варюха! Иди к нам!
Невеста резвенько встала и потащила за собой женишка. И надо же было, такому случиться что пути молодоженов и тёти Светы чудесным образом пересеклись.
— С дороги! — прикрикнула тётя, отталкивая жениха.
Не выдержав напора зрелой биомассы, жених упал и, падая, схватился за невестину фату. Варина мама, не выдержав такого надругательства над дочуркой, набросилась на тётю Свету с кулаками. Другие родственники и знакомые тоже не захотели остаться в стороне. И завязалась эпическая драка с членовредительством и кровопролитием, без которой, как говорят в народе, и свадьба не свадьба.
По итогам драки почти всех гостей забрала полиция, несколько человек, включая Настю Краснову и семью Тетеревых в полном составе, отправили в травмпункт. Остались: я с Алёнкой — без помощи божества Борьки явно не обошлось, жених с невестой — за них заступился владелец кафе из меркантильных соображений, ведь кому-то надо было оплачивать счета, старушка из Злато-Ордынска и мужичок Нижнего Волоколамска — полиция их почему-то в упор не замечала, не действовали на стражей порядка никакие манделы.
— Было уже такое? — осторожно спросил я у Алёнки, обводя взглядом пустой зал.
— Нет, Боря, в этот раз вы превзошли самого себя, — с олимпийским спокойствием заметила девушка. — Один раз вы по столам прыгали и ногу сломали, один раз пожар из-за вас начался, но быстро погасили, — объяснила она, ловя мой вопросительный взгляд. — Но чтоб вот так, всю свадьбу разом разогнать… Не передать, как я вам благодарна: как же надоело сюда ходить!
— А что мы всё на вы да на вы? — я вдруг почувствовал себя необыкновенно смелым.
— Предлагаете выпить на брудершафт?
— Предлагаю! А на речку съездить не хотите?
Я присел рядом с девушкой и достал из-под стола бутылку красного игристого вина из несуществующего города, в душе надеясь, что это событие закрепится в нашем пространственно-временном континууме надолго. Желательно навсегда.
Куратор проекта: Александра Давыдова
Статьи

История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе: интервью с Дмитрием Мордасом

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика
Научная фантастика, которую мы будем читать в следующем году.

Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение
Запах ёлки и мандаринов прилагается

Вампиры, черти и фэйри. Подборка фэнтези на зимние праздники
Подборка зимних книг, которыми можно наслаждаться в долгие праздники.

Лучшие книги 2025 года: фантастика, фэнтези и мистика (и один комикс)
Фантастические и фэнтезийные книги, вышедшие на русском в 2025 году, которые рекомендуют авторы «Мира фантастики.

5 отличных рассказов Брендона Сандерсона для тех, кто не знаком с Космером
Или для тех, кто уже прочитал все его романы и хочет чего-то новенького.

«Я сразу понимал, что в писательстве самое трудное, и был к этому готов». Беседа с Антоном Мамоном
Разговор о вампирах, путешествиях и катакомбах.

История Мэри Шелли: жизнь и творчество матери научной фантастики
Женщина, которая придумала чудовище

Город дирижаблей и безумных учёных: цикл Владимира Торина «Таинственные истории из Габена»
Авантюры, тайны, загадки

Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2025-го
Фантастические книги декабря: от трилогии Джека Вэнса в одном томе до нового гримдарка Ивана Белова.
Показать ещё
Спецпроекты
Все спецпроекты
Все спецпроекты